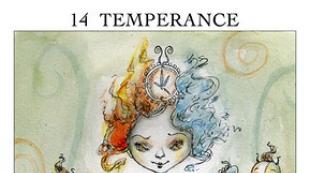Наставления отца чичикова. Наставления отца чичикова Какой совет получил чичиков от отца
Отец привёз Павлушу в город к своей дальней родственнице, где мальчику суждено было обучаться в городском училище. Последний разговор перед отъездом – это наставление отца Чичикова сыну о том, как нужно вести себя, как строить свои отношения с окружающими, что ценить, а чего избегать. Судьба распорядилась так, что это был последний разговор Павлуши с родителем, больше они не виделись, а через несколько лет отец умер.
Родительский завет
Отец Павлуши наказывал сыну “не повесничать”, не баловаться, а заниматься только учёбой, что говорит о том, насколько далёк взрослый родитель от мира детства. В своей строгости и постоянном недовольстве ребёнком, он позабыл о том, что игры, забавы и баловство – неотъемлемая часть жизни детей. Именно таким и стал маленький Чичиков – “степенным”, “взрослым” ребёнком. Его мысли были заняты тем, как заработать копейку, он не водился со сверстниками, не знал искренней дружбы. Глубоко в душу мальчика запали слова отца о том, что товарищи могут предать в трудный момент, а выручат только деньги: “Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был”.
Жизнь сложилась именно так, как завещал отец: лучшим другом Павла Ивановича стали деньги.
Об отношениях с людьми
“Больше всего угождай учителям и начальникам” – таким был завет отца. Бесспорно, это не самое лучший наказ для начала жизни, но в этот Чичиков-старший видел путь к достижению успеха и признания. Он не верил в ум и талант собственного ребёнка, хотя в школе Павлуша оказался вполне успешным, пусть и не самым лучшим учеником. У него была склонность к арифметике, и в будущем Чичиков оказался умельцем просчитать и вычислить все необходимые действия.
Советы отца Павлуша воспринял буквально, поэтому со времён училища научился водиться с теми, “кто побогаче, чтобы при случае могли быть … полезными”. Родитель советует Павлуше никого не угощать, не тратить деньги на товарищей, а вести себя так, чтобы другие угощали его. Эту науку мальчик постиг быстро, и умудрялся продавать угощения своим же одноклассникам прямо на занятиях.
Отцовские слова о деньгах
Но самым главным наставление родителя в поэме стала его философия в отношении денег:”больше всего береги копейку…всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой”. Будущее показало, что этот путь самый правильный в том обществе, в котором предстояло жить Чичикову, только наличие денег успокаивало его, капитал и его приумножение – вот что стало смыслом жизни Павла Ивановича. Возможно, отец главного героя пришёл к такому выводу из-за того, что сам остался к старости без средств, озлобленный и не способный что-то изменить в жизни. Именно это обстоятельство помешало ему сказать сыну на прощание о своих отцовских чувствах, о вере в него…
сообщить о неприемлемом содержимомТекущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Шрифт:
100% +
Николай Васильевич Гоголь
Детство Чичикова
(Отрывок из поэмы «Мертвые души»)
<…>В один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем соро́ки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На соро́ке тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом соро́ка бултыхнула вместе с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали; а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном потащился вновь домой на своей соро́ке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.
Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив – в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, – признак подступающего голода, – он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаяся с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! – говорил он. – Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор, – говаривал он, – я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он Солона заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей», и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех треух (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение.
Вступая в самостоятельную жизнь, Павел Иванович Чичиков, тогда еще мальчишка, получил от отца «умное наставление»: учиться, а не повесничать; больше всего угождать начальникам; водиться с товарищами, которые побогаче; не угощать никого, а вести себя гак, чтобы тебя угощали; а главное - беречь и копить копейку: «Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой».Отец Чичикова не очень, вероятно, следовал этим принципам, а потому оставил после себя в наследство сыну ветхий домишко, старые личные вещи да одну семью крепостных. Сын же его Павлуша помнил слова отца всегда, следовал его советам и, как ни трудно это ему давалось, преуспел в жизни.
Как же Чичиков исполнял заветы отца?
Учился Павлуша с большим старанием. Но так как способностями к наукам не обладал, то больше добивался успеха тем, что угождал учителю. Не столько из уважения, сколько из желания отличиться, обратить на себя внимание, заслужить похвалу. И добился своего: был на отличном счету у администрации училища. Умение угождать начальству, угадывать желание начальника, льстить, быть нужным человеком пригодилось Чичикову, когда он служил в казенной палате, и на таможне, и в звании поверенного. Но с детства он не был искренним. Все его поведение можно назвать притворством, лицемерием.
Чичиков и в юные годы, и позже «не повесничал», а много и настойчиво работал. Отказывал себе в отдыхе, в хорошей еде, в развлечениях. И все ради карьеры, ради того, чтобы в будущем вести жизнь «во всех довольствах, со всякими достатками». Он ревностно служил на любом поприще, входил в доверие к начальству и заслужил повышение в должности. А затем путем мошенничества, обмана умножал свое состояние.
Товарищей у него не было. Он не только не угощал однокашников в училище, но даже, «припрятав полученное угощение, потом продавал им же». А то и дразнил пряником или булкой проголодавшегося товарища побогаче и потом «брал деньги, соображаясь с аппетитом». Во взрослой жизни у него тоже не было друзей. Был один, которого Чичиков привлек для исполнения рискованного дела с контрабандистами. Но кончилось все ссорой и доносом.
Более всего Чичиков следовал совету беречь копейку. И в этом проявил оборотистость почти необыкновенную. В училище продавал булочки товарищам, соразмеряя цену со степенью голода; сделал из воска снегиря и продал его очень выгодно. Столь же выгодно продал выдрессированную им мышь. Это были детские способы. На службе же Чичиков проявлял чудеса изобретательности, прикрытые внешней обходительностью и видимостью благородства, для получения взяток. Не погнушался возможностью обобрать государственную казну во время работы в комиссии по строительству казенного дома. Сумел тайно связаться с контрабандистами и получить «на этом деле четыреста тысяч капиталу». Оправдывал он себя словами: «Кто же зевает на должности? - все приобретают». Верхом его находчивости, смекалки и ума стала идея с покупкой мертвых душ, с тем чтобы заложить их в опекунский совет как живых- и на разнице в цене составить новый капитал тысяч этак в двести, как просчитал наперед Чичиков.
Не один раз обстоятельства отбрасывали Чичикова назад, опять и грязь и нищету. Но Павел Иванович, умудрявшийся припрятать часть денег, находил в себе силы подняться и предпринять новые шаги для продвижения вверх.
«Кто же он? стало быть, подлец?» - задает вопрос Гоголь. И сам же отвечает: «Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение - вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых».
Читаешь «Мертвые души» и диву даешься, насколько верно Н. В. Гоголь отразил нравы дельца-предпринимателя. Гоголь увидел их еще в зародыше в середине XIX века. В XX веке они укоренились. И сейчас дают достойные плоды. Наставления отца юному Чичикову становятся «кодексом чести» современного предпринимателя.
Вступая в самостоятельную жизнь, Павел Иванович Чичиков, тогда еще мальчишка, получил от отца «умное наставление»:
Учиться, а не повесничать;
Больше всего угождать начальникам;
Водиться с товарищами, которые побогаче;
Не угощать никого, а вести себя так, чтобы тебя угощали;
А главное - беречь и копить копейку: «Все сделаешь и все
Прошибешь на свете копейкой».
Отец Чичикова не очень, вероятно, следовал этим принципам, а потому оставил после себя в наследство сыну ветхий домишко, старые личные вещи да одну семью крепостных. Сын же его Павлуша помнил слова отца всегда, следовал его советам и, как ни трудно это ему давалось, преуспел в жизни. Как же Чичиков исполнял заветы отца?
Учился Павлуша с большим старанием. Но так как способностями к наукам не обладал, то больше добивался успеха тем, что угождал учителю. Не столько из уважения, сколько из желания отличиться, обратить на себя внимание, заслужить похвалу. И добился своего: был на отличном счету у администрации училища. Умение угождать начальству, угадывать желание начальника, льстить, быть нужным человеком пригодилось Чичикову, когда он служил и в казенной палате, и на таможне, и в звании поверенного. Но с детства он не был искренним. Все его поведение можно назвать притворством, лицемерием. Особенно это проявилось в истории с повытчиком, в доверие к которому вошел Чичиков и даже якобы собирался жениться на его дочери.
Чичиков и в юные годы, и позже «не повесничал», а много и настойчиво работал. Отказывал себе в отдыхе, в хорошей еде, в развлечениях. И все ради карьеры, ради того, чтобы в будущем вести жизнь «во всех довольствах, со всякими достатками». Он ревностно служил на любом поприще, входил в доверие к начальству и другим чиновникам и тем самым заслуживал повышение в должности. А затем путем мошенничества, обмана умножал свое незначительное сначала состояние.
Товарищей у него не было. Он не только не угощал однокашников в училище, но даже, «припрятав полученное угощение, потом продавал им же». Или же дразнил пряником или булкой проголодавшегося товарища побогаче и потом «брал деньги, соображаясь с аппетитом». Во взрослой жизни у него тоже не было друзей. Был один, которого Чичиков привлек для исполнения рискованного дела с контрабандистами. Но кончилось все ссорой и доносом. Но более всего Чичиков следовал совету беречь копейку. И не только берег, но и приумножал. И в этом проявил оборотистость почти необыкновенную. В училище продавал булочки товарищам, соразмеряя цену со степенью голода; сделал из воска снегиря и продал его очень выгодно. Столь же выгодно продал выдрессированную им мышь. Это были детские способы. На службе же Чичиков проявлял чудеса изобретательности, прикрытые внешней обходительностью и видимостью благородства, для получения взяток.
Не погнушался возможностью обобрать государственную казну во время работы в комиссии по строительству казенного дома. Сумел тайно связаться с контрабандистами и получить «на этом деле четыреста тысяч капиталу». Оправдывал он себя словами: «Кто же зевает на должности? - все приобретают». Но верхом его находчивости, смекалки и ума была идея с покупкой мертвых душ, с тем чтобы заложить их в опекунский совет как живых и на разнице в цене составить новый капитал тысяч этак в двести, как просчитал наперед Чичиков.
Не один раз обстоятельства отбрасывали Чичикова назад, опять в грязь и нищету. Но Павел Иванович, умудрявшийся припрятать часть денег, находил в себе силы подняться и предпринять новые шаги для продвижения вверх. И в этом он проявлял незавидное упорство, настойчивость и изобретательность. «Кто же он? стало быть, подлец?» - задает вопрос Гоголь. И сам же отвечает: «Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение - вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых».
Читаешь «Мертвые души» и диву даешься, насколько верно Н. В. Гоголь отразил нравы дельца-предпринимателя. Гоголь увидел их еще в зародыше в середине XIX века. В XX веке они укоренились. И сейчас, в годы расцвета «дикого капитализма» в нашей стране, дают достойные плоды. Наставления отца юному Чичикову становятся «кодексом чести» современного предпринимателя.